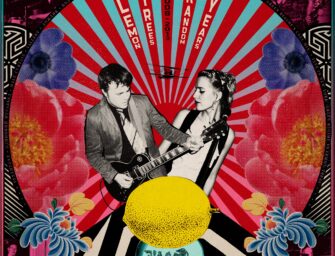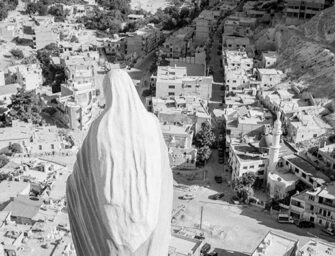После провала (настаиваю именно на этом определении) «Вавилонской башни-1» Марату Гацалову отчаянно требовалось доказать таллиннской публике, что в его назначении худруком Русского театра есть какая-то перспектива именно для этого театра. Гацалов пошел с козырей. С того, что у него получается лучше всего — с лабораторной работы над новой российской драматургией.
Спектакли ставил не он, но он отобрал пьесы, пригласил двух режиссеров из России, Павла Зобнина и Антона Маликова, и руководителя Тартуского нового театра Ивара Пыллу; четвертым постановщиком стал Иван Стрелкин, работающий вместе с Гацаловым в Русском театре. Так что по этой лаборатории можно судить о Гацалове как об investigator’e и мотиваторе. Кроме того, тут он реализовал свое уже ранее декларированное намерение объединить в общей работе эстонских (из авангардистских NO99 и Театра фон Краля) и русских актеров.
Идея прекрасная — если, конечно, она идет от собственного желания, а не от нажима со стороны одного из гнуснейших министров культуры Эстонии за последние 60 лет — Рейна Ланга. Русское общественное мнение Эстонии склоняется к тому, что кандидатура Гацалова была выбрана министерством (понятие не имеющим о современном рынке российской режиссуры) не столько потому, что он безусловно талантливый постановщик, но потому что при своем пристрастии к эксперименту, лаборатории, желании ставить только новые российские пьесы он заведет театр в тупик, разорвет связь между сценой и публикой — и опустевший, не дающий сборов театр можно будет закрыть как ненужный.
Явно по указаниям Ланга самые бездарные и сервильные эстонские критики Хели Сибритс и Маргус Микомяги писали восторженные тексты о Гацалове. Вообще возникла какая-то клака (клоака?), пытающаяся расхваливать «Вавилонскую башню-1». Три безграмотные статьи, написанные Виталием Белобровцевым, некой Оксаной Ермаковой и Татьяной Боевой, подписавшейся «сотрудница Русского музея» (в Русском музее на ул. Пикк меня заверили, что такой сотрудницы у них нет), пытались опровергнуть негативные рецензии, но ни ума, ни знаний не хватило. Если эти статьи инспирированы театром (не Гацаловым, конечно!), то неловко за театр.
Все это — фон, без которого трудно понять значение и смысл лаборатории. Работа в ней протекает по такой модели: за неделю или меньше режиссер и актеры создают эскиз постановки, по которому можно судить, во-первых, насколько сценична пьеса, во-вторых, следует ли продолжать работу. Эскиз — что-то вроде скелета, который должен обрасти мясом; по пока еще тонким и прозрачным кровеносным сосудам должна пробежать дающая жизнь алая жидкость. Уровень готовности эскиза очень разный, он может включать в себя весь текст пьесы или только ударные куски, быть слабым намеком или густо прописанным черновиком будущей постановки.
У актеров в руках ноутбуки, с которых они считывают текст.
***
За два дня «Лаборатории современной российской драматургии» были показаны четыре эскиза: «Иллюзия» Ивана Вырыпаева (режиссер Павел Зобнин), «Трусы» и «Поле» Павла Пряжко (Антон Маликов и Ивар Пыллу) и «Самый легкий способ бросить курить» Михаила Дурненкова (Иван Стрелкин).
Из четырех пьес самая сложная и невыигрышная, но и самая глубокая — «Иллюзия» Ивана Вырыпаева. Драматург и режиссер, Вырыпаев практически во всех своих произведениях («Кислород», «Бытие №2», «Эйфория», «Июль» и пр.) исследует одну тему: Дьявол, живущий в нас, и 10 заповедей, на которые мы походя плюем. Но здесь он впервые переносит действие из России в (условную) Францию, героев зовут Денни, Сандра, Маргарет и Альберт, форма пьесы аскетична: четыре актера не перевоплощаются, а рассказывают о своих героях.
Это притча о мире, в котором вместо правды — видимость правды, иллюзия великой любви, пронесенной через полвека; отчаянно искренний монолог на смертном одре оказывается ложью во спасение. Павел Зобнин работал над этим эскизом с четырьмя эстонскими актерами, значит, помимо обычных трудностей был еще языковый барьер (хотя Илона Мартсон перевела пьесу действительно качественно). Тем не менее режиссер сделал очень многое. Прежде всего, нашел форму постановки, еще более аскетичную, чем сама пьеса.
Актеры и публика сидят вместе, у актеров в руках ноутбуки, с которых они считывают текст. Зрители следят за происходящим в зеркале, а зеркало, как известно, лжет, создавая видимость правды: ведь правое и левое в нем поменяны местами. Это в очень большой степени — театр голоса, театр интонации; в эскизе слишком пафосный был первый монолог, тот самый, на смертном одре, тут многое зависело от актрисы, не сумевшей пока пройти по той грани, за которой пафос переходит в обман. Но в целом зрелище было очень достойным. Нельзя сказать, чтобы увлекательным, но умным.
***
Белорусский драматург Павел Пряжко популярен и захвален в России. Может быть, слишком. Он ухитряется работать сразу в двух стилистиках. Одна — т.н. постдраматический театр, т.е. пьеса, в которой нет образов, нет развития действия в классическом его понимании, некому сочувствовать. Это виденные мною на разных фестивалях «Запертая дверь» и «Злая девушка», поставленные прикипевшим к пьесам Пряжко Дмитрием Волкостреловым. Есть у него и пьеса «Солдат», в которой герой входит, скидывает с себя форму, уходит за кулисы в душ (видео показывает, как он моется), затем выходит и заявляет, что в часть он больше не вернется. Всё.
Авторы «новой российской пьесы» и их герои матом разговаривают — скучно и неизобретательно.
Другой Пряжко — абсурдист, постсоветский Ионеско, показывающий ужас и бессмысленность современного быта, свинцовые мерзости дикой русской (половой?) жизни (Горький), здесь соблюдается канон драматической формы, есть характеры — заостренные до полного беспредела, но сохранившие жизненность.
Антон Маликов в неделю, отведенную на сотворение эскиза, уложиться не успел, а актриса NO99 Инга Салуранд, играющая в «Трусах» главную роль, выучила текст только частично, и со второй половины спектакля ее реплики произносил закадровый мужской голос, что могло сойти за прием.
Маликов сократил текст. За что я ему чувствительно благодарен: не люблю, когда на сцене матерятся на каждом шагу. Ненормативная лексика может прозвучать в момент запредельного эмоционального взрыва; у Льва Толстого в «Воскресенье» Катюша Маслова говорит Неклюдову «Каторжная я, блядь» — и это шок. А авторы «новой российской пьесы» и их герои матом разговаривают — скучно и неизобретательно; должен ли диалог быть натуралистическим?
Хорошо вписался в абсурдную, заумную ситуацию предельно жизненный мент, сыгранный Олегом Рогачевым, очень смешон «друг по переписке в Интернете» (Владимир Антип в этой роли появляется в женском белье — рифма к основному образному ходу пьесы).
Вообще-то «Трусы» — о том, как стая черных ворон забивает белую: Нинка покупает себе дорогие трусы, которые никто в их поселке не может себе позволить, — и все женщины озлобленно объединяются против нее. В финале Нинку сжигают на костре. Можно, конечно, провести эффектную параллель: Жанна д’Арк взошла на костер за свободу родной страны, Нинка — за трусы, вот как мы деградировали за 600 лет. Но не нужно.
***
«Поле», поставленное режиссером Тартуского нового театра Иваром Пыллу с актерами Русского театра, столь же абсурдно, но намного более осмысленно. В нескольких словах — это история о сизифовом труде на фоне тектонического сдвига. Трое молодых комбайнеров (Александр Жиленко, Даниил Зандберг, Иван Алексеев) беспрерывно убирают урожай, их девушки (Наталья Дымченко и Татьяна Егорушкина) зовут их на дискотеку, но парням некогда. Поле нескончаемо, оно протянулось сквозь всю Европу, кругом неправдоподобно много чужих комбайнов. Комический эффект достигается тем, что герои никак не оценивают катастрофу, которая произошла с землей, они все в работе (мужчины) или в сексуальном томлении (женщины). Форма спектакля вполне себе минималистская, мизансцены стремятся к нулю, работа изображается обведением мелом контуров на стене — все это выглядит на удивление смешно и увлекательно. Жаль, если останется разовой лабораторной работой.
То же самое, но еще в большей степени, можно сказать про «(Самый) легкий способ бросить курить»). Иван Стрелкин разместил свой эскиз в малом зале Театра фон Краля, соотношение сценического и зрительского пространств не фиксировано, зрители сидят в креслах на колесиках, могут вертеться туда-сюда, если надо, актеры откатывают их кресла. Зрителям неудобно, но это входит в условия игры: ты на шкуре своей должен прочувствовать то, что испытывают герои пьесы, в первую очередь, конечно, Константин (Дмитрий Косяков).
Костя — лузер. Жизнь постоянно отбрасывает его, а жена Катя (Екатерина Новоселова) беспрестанно пилит и заодно изменяет с другом и начальником Кости Дмитрием (Сергей Фурманюк). Вроде бы бытовой конфликт. Но за этим кроются два начала, воплощенные в женских образах: Жизнь — Катя и Смерть — Соня в голубом парике и с застывшим лицом (Лооре Мартма).
Гибнут, впрочем, обе.
Зрителям неудобно, но это входит в условия игры.
Этот эскиз — самый многообещающий, тут просто надо доводить работу до ума, что-то делать с тем, что к финалу драматическое напряжение спадает, а почти каждая картина завершается такой жирной точкой, что не зная пьесы, можно подумать: все, пришел финал. То есть проблемы технические и без особого труда решаемые.
Вопрос только в одном: много ли публики соберет такой спектакль?
Когда у театра дела идут хорошо, зал полон — тогда лаборатория приносит несомненную пользу. Но она — гарнир к основному блюду. Важно, чтобы основные блюда были съедобными.